Вице-министр индустрии и новых технологий: «Если есть заинтересованные инвесторы, геологоразведку логичнее производить за их счет»

2012
Вице-министр индустрии и новых технологий: «Если есть заинтересованные инвесторы, геологоразведку логичнее производить за их счет»
|
– Нурлан Ермекович, президент заявил, что готов отменить проведение конкурсов на предоставление прав недропользования. Предполагается, что эти полномочия должны быть переданы областным властям. При этом он не уточнил, каким образом это должно происходить. Каким образом должен заработать механизм проведения конкурсов? |
– Ответы на эти вопросы полностью концептуально даны в недавнем послании главы государства. Мораторий на привлечение инвестиций на ТПИ (твердые полезные ископаемые. – «Къ – Горное дело») предлагается отменить. При этом часть доходов от этих инвестиций предполагается оставить в регионах. В части полномочий местных госорганов: им переданы права на предоставление прав недропользования по ОПИ (общераспространенным полезным ископаемым. – «Къ – Горное дело»), а также оставлено право прямых переговоров за СПК. По конкурсам: они ранее проводились, поэтому недропользователям механизмы понятны.
– Правительство приняло программу развития геологической отрасли до 2030 года. Реализуется ли отраслевая государственная Программа развития минерально-сырьевой базы до 2014 года или этот документ был отменен за ненадобностью?
– Эта программа продолжает выполняться по ранее утвержденным проектам в рамках выделенного бюджетного финансирования. Вместе с тем подготовлены предложения по корректировке отраслевой Программы. Они предполагают, прежде всего, разработку необходимых нормативов на использование современных геологоразведочных методов и технологий, составление проектно-сметной документации на их основе, а затем и проведение геологоразведочных работ. Полагаем, что в рамках установленного регламента эти корректировки будут рассмотрены и приняты. Кроме того, уже сейчас мы приступаем к разработке новой отраслевой программы на 2015–2019 годы. Эта программа будет нацелена на системное и комплексное геологическое изучение недр, в первую очередь на больших глубинах.
– Почему вопрос о недостаточности запасов возник только с запуском программы ФИИР?
– В советский период – период расцвета «большой казахстанской геологии» – вся территория Казахстана основательно была изучена и открыты практически все месторождения, находящиеся сегодня в разработке. На многие годы вперед были сформированы «кладовые» запасов минерального сырья, которые стали основой для развития добывающих и перерабатывающих отраслей. Но изучены были лишь приповерхностные месторождения на глубину 150–300 метров. На большей глубине изученность казахстанских недр гораздо ниже. Запасы полезных ископаемых снижаются.
Например, запасы цветных и благородных металлов могут быть отработаны уже за 12–15 лет. По углеводородам, урану, углю, черным металлам ситуация более благополучная – при достигнутой производительности разведанные запасы могут обеспечивать производство в долгосрочной перспективе.
Что же касается прироста запасов, то за последние 18 лет геологоразведочные работы не компенсировали извлеченных из недр объемов многих полезных ископаемых. Прирост запасов по железу, марганцу, цинку, золоту получен в основном за счет переоценки и доизучения ранее известных месторождений. Но и они характеризуются низким качеством и не могут являться равноценным эквивалентом погашенным запасам.
Запуск программы ФИИР и перспективы моногородов вызвали повсеместную актуализацию данного вопроса. Вот почему проблема обеспеченности запасами минерального сырья потребовала безотлагательного решения.
– Какие законодательные изменения планируется внести для дальнейшего развития геологии?
– Мы предложили 130 поправок в действующее законодательство. Мы работаем, чтобы в течение первого полугодия 2013 года они были рассмотрены в парламенте РК. Реорганизация геологоразведочной отрасли должна предусматривать решение системных проблем. Я уже ранее отмечал, что к ним относится отсутствие высокотехнологичных геологоразведочных предприятий, спад прикладной науки, значительный дефицит профессиональных кадров и недостаточно привлекательные законодательные условия для инвестиций в геологоразведку. Такой подход позволит сбалансировать систему воспроизводства полезных ископаемых. Кроме того, ряд поправок регламентируют порядок перехода прав на разведку на права на разработку в случае полного исполнения контрактных обязательств, усиление государственной поддержки малым и средним геологоразведочным предприятиям в Казахстане. Кроме того, мы внесли поправки, дающие недропользователям большую свободу при реализации их рабочих программ.
– Поясните, пожалуйста.
– Например, если недропользователь отклонился от своей рабочей программы на 5–10%, он должен согласовывать ее заново. Мы предлагаем увеличить люфт, в котором компания могла бы не согласовывать изменения, до 25–30%. Это позволит ему, оставаясь в рамках рабочей программы, допускать отклонения. Это все-таки производство. Кроме того, мы планируем сократить сроки предоставления геологической информации. Если брать все процедуры, процесс может затянуться на 204 дня. Мы хотим сократить сроки до 40 дней. Мы установили этот предел для своих организаций.
– Информация останется платной?
– На сегодняшний день она платная, но мы считаем, что это не совсем правильно. Если компании просят информацию для ознакомления, она должна предоставляться бесплатно. Сейчас весь архив, который у нас есть, мы перевели в электронную версию. Когда законодательная норма будет принята, мы хотим, чтобы эта информация предоставлялась бесплатно. Но она станет платной, если компания подпишет контракт на недропользование. Государство понесло затраты на изучение этих территорий, и они должны быть компенсированы. Логика проста: если государство будет просить деньги за информацию со всех интересующихся компаний, они могут не захотеть платить за «кота в мешке». В результате из 100 компаний только 5–10 захотят заплатить, будут попытки воспользоваться инсайдерской информацией. В таком случае никакой конкуренции не будет. Министерство же хочет дать информацию и заинтересовать всех. Если мы будем предоставлять геологическую информацию для ознакомления бесплатно, мы надеемся, что придут 20–30 компаний, готовых осознанно участвовать в тендере.
– Как много компании будут платить?
– Сумма будет определяться в зависимости от степени изученности территории. Компании будут знать, сколько они заплатят за информацию еще до подписания контракта.
– Как будет рассчитываться цена?
– Геологическое изучение недр в Казахстане происходило еще с 40-х – 60-х годов прошлого века. И подсчитать затраты сложно: другая стоимость денег и сложности перевода, количество затрат, учет уже сделанных компенсаций – задача достаточно сложная и трудоемкая. Мы рассматриваем вариант, чтобы цена определялась, исходя из территориального зонирования. Например, Карагандинский регион изучен хорошо. Для расчета стоимости исторических затрат сумма, затраченная на изучение, будет делиться на количество квадратных километров. Чтобы информация была наглядной, мы планируем создать карту, на которой можно будет узнать стоимость той или иной территории. Мы считаем, что это намного ускорит предоставление геологической информации и расчет ее стоимости.
– Как оценивают компании потенциальный эффект от принятия поправок?
– Недропользователи утверждают, что если 130 поправок будут приняты, то работать в отрасли будет гораздо проще, а закон «О недрах» станет в большей степени соответствовать нуждам отрасли.
– Поправки планируется принять в первой половине 2013 года. Расскажите, пожалуйста, что будет сделано потом?
– Концептуально программа развития геологической отрасли состоит из трех этапов. Первый, краткосрочный период на 2013–2015 годы нацелен на развитие отраслевой инфраструктуры – это становление национальной геологоразведочной компании «Казгеология», Геологического технологического центра, государственных кернохранилищ и лабораторно-аналитических комплексов. Одним из важных инструментов для трансферта технологий в отрасль будут проекты государственно-частного партнерства с ведущими зарубежными компаниями. На сегодня разработан ряд проектов, первым среди которых стартует поиск и разведка крупных медно-порфировых месторождений в Центральном Казахстане. В этом проекте предполагается сотрудничество британской горнорудной компании Rio Tinto и АО «Казгеология», в рамках которого будет также осуществляться трансферт технологий и предварительная стажировка казахстанских кадров за рубежом. Наши специалисты должны будут освоить как новые технологии полевых геологоразведочных работ, так и особенности обработки, интерпретации геолого-геофизических и геохимических данных, лабораторные исследования, моделирование и подсчет ресурсов и запасов по международным стандартам.
– Какие шаги будут предприняты после 2015 года?
– Следующий этап охватывает период до 2020 года. Он станет этапом проведения крупномасштабных поисковых и поисково-оценочных работ на больших глубинах. В этот период активизируются недропользователи, как национальные горнорудные компании, так и частные. Это будет временем подтверждения экономической рентабельности новых запасов полезных ископаемых согласно международным стандартам. Будет активно развиваться отраслевая наука, разрабатываться новая аппаратура и оборудование для разведки труднодоступных участков недр, будет совершенствоваться система государственных кадастров месторождений. В долгосрочной же перспективе – до 2030 года – предполагается обеспечить эффективное функционирование государственной системы управления, изучения и учета минеральных ресурсов. Вот, собственно, основные контуры концепции развития отрасли.
– Нурлан Ермекович, за чей счет будет финансироваться геологоразведка в Казахстане? Преимущественно за счет государства, как в советские годы?
– Нет, только за счет государства осуществлять полномасштабную геологоразведку невозможно и нецелесообразно. Необходимо улучшать условия для привлечения инвестиций в геологию, что также будет способствовать комплексному решению многих вопросов, таких как восполнение запасов, трансферт технологий, подготовка кадров. Государство будет заниматься геологическим изучением недр, где риски по необнаружению экономически привлекательных объектов очень велики. Сначала выявляются аномалии, потом они изучаются. Когда обнаруживается рудное тело, возникает интерес со стороны частных инвесторов. А если есть заинтересованные инвесторы, геологоразведку логичнее производить за их счет. К примеру, во многих странах мира значительную роль в геологоразведке играют небольшие компании, которые называют «юниорными». Эти предприятия за счет профессионализма и высокой мобильности выполняют геологоразведку на свой страх и риск, а потом компенсируют свои расходы за счет переуступки прав на недропользование более крупным частным горнодобывающим компаниям, в том числе и национальным. Нам видится целесообразным применить данную практику в Казахстане.
– Недропользователи утверждают, что для роста инвестиций в геологоразведку должна быть возможность получить доступ к недрам «по первому требованию».
– Это вопрос концептуального характера, и должна быть выработана политика государства в области предоставления прав недропользования. Существуют разные юридические модели. В Казахстане сейчас действует контрактная система: прежде чем вы получите права недропользования, вы должны получить контракт. Чтобы его получить, вы должны получить проектно-сметную документацию. Есть другая форма – лицензионная. Ее ключ – правило первого звонка: если недропользователь пришел, то государство ни в какие нюансы не вдается и предоставляет ему право недропользования. В течение 30 минут, максимум – 2 часов недропользователь получает свою лицензию.
Эти изменения будут происходить, если будет принято решение изменить контрактную модель на лицензионную. Свои плюсы и минусы есть у каждой модели. В Послании глава государства дал поручение разработать специальную стратегию в этой сфере. Стратегия и даст ответ на выбор модели. Если будет принято решение, то потребуется работа в течение нескольких лет, чтобы подготовить закон и принять поправки в законодательные акты, регламентирующие работу горнодобывающей отрасли.
– Еще одна проблема, которая беспокоит недропользователей, – неконвертируемость контракта на геологоразведку в добычную. Здесь политика государства как-то будет меняться?
– Автоматического перехода пока не будет. Потому что если убрать это разделение, государство теряет возможность отстаивать свои интересы. Недра принадлежат народу, и государство должно учесть в контракте баланс интересов.
– Объем обязательств компаний будет закреплен законодательно или станет определяться контрактом?
– Каждый контракт будет заключаться индивидуально – потому что реальные параметры конкретного месторождения отличаются. А государству важно, чтобы разрабатывались не только «легкие» высокорентабельные месторождения, но и месторождения с низкими содержаниями, со сложными рудами. Таких производителей следует поддержать.
– В настоящее время у инвесторов есть три возможности получить доступ к казахстанским недрам: прямые переговоры через нацкомпанию, покупка у владельцев, получивших лицензию до введения моратория, и «аренда в обмен на инвестиции в высокие переделы». Какой вариант предпочитают компании?
– По сути, сейчас действует только один вариант – прямые переговоры. Я не буду рассматривать покупку у частных лиц, потому что это – не доступ к месторождениям, которое предоставляет государство. Тут действуют законы свободного рынка. Что касается третьего варианта, то закон по нему уже есть, но им еще никто не воспользовался, пока идут предварительные переговоры.
– Поясните, пожалуйста. Традиционный путь: компания получает месторождение, смотрит, какого качества руда, и, исходя из полученных данных, строит предприятие по ее переработке. Можно ли проектировать предприятие, не зная особенностей сырья?
– Если компания строит завод под разведочный контракт, когда она еще не знает, какие результаты получит, то, как Вы правильно заметили, это фикция. Мы ориентируемся на уже готовые объекты. Если завод уже существует, но у него заканчивается ресурсная база, то мы готовы рассмотреть варианты по предоставлению этой ресурсной базы через прямые переговоры. Это означает, что такой возможностью могут воспользоваться уже работающие компании. Кроме того, они должны войти в карту ГПФИИР. А в нее не входят проекты, связанные с недропользованием. Например, ГОК не может подать заявку – только компания, у которой есть собственный высокий передел. Например, Таразский металлургический завод, который производит ферросиликомарганец. Он заявил, что в рамках существующего производства готов выпускать другие виды продукции, что сделает его более устойчивым. Но для этого необходимо месторождение хромитов. Такого рода заявки мы готовы рассматривать. Есть еще одна возможность. Если какой-то индустриальный гигант говорит, что готов поставить высокотехнологичное предприятие, но при этом уточняет, что месторождение не связано напрямую с производством продукции на этом предприятии, то мы тоже готовы рассмотреть такой вариант.
– Например?
– Если компания, предположим, скажет, что поставит технологичный завод, и для этого просит железорудное месторождение для обеспечения другого проекта, такой вариант тоже можно рассмотреть. Эти проекты не обязательно технологически должны быть связаны. Западные компании боятся рисковать, поэтому просят месторождения в качестве дополнительного обеспечения финансовой состоятельности. Мы как государство могли бы дать такой компании госгарантию. Но предоставив месторождение, государство получает двойную выгоду: производитель строит высокотехнологичный завод и при этом разрабатывает месторождение. В качестве примера из нефтяной отрасли можно привести компанию Eni, которая ведет переговоры по месторождениям Исатай и Шагала. Взамен компания предлагает государству сделать реконструкцию Павлодарского НХЗ, построить электростанцию в Уральске, судостроительный и судоремонтный завод в Мангыстау, газохимический завод на Карачаганаке, а также сделать комплексное изучение газоносности региона. Государство может просто предоставить месторождение за деньги, но нам нужны сейчас технологии. Для нас приоритет – это трансферт технологий.
– Как оценивают этот путь доступа к недрам сами бизнесмены?
– Мы и сами его оцениваем. Основная проблема этого закона в том, что он написан под нефтяную отрасль. Поэтому некоторые процедуры по ТПИ и ОПИ столь же сложны, как на нефтяных месторождениях. Иначе говоря, щебенку ты добываешь или нефть на сложном месторождении – приходится проходить одни и те же инстанции.
– Недропользователи жалуются, что процедура переговоров с «Тау-Кен Самрук» требует слишком большого количества времени. Будет ли каким-то образом меняться процедура согласования?
– Дело в том, что раньше недропользователь получал контракт уже через месяц после проведения переговоров. Но на поле начинал работать, когда закончит свои проектные работы, получит экспертизы, согласует проект. В нынешней ситуации при прямых переговорах недропользователь бонус оплачивает сразу и тем самым гарантирует себе получение права на недра. После этого компания может готовить проект, а после его защиты в ЦКР – подписывать контракт. Фактически по времени компания не проиграла ничего: на поле он сейчас выходит примерно в то же время, как и ранее. Но второй вариант в большей степени подкреплен расчетами. Раньше в контракт нередко вставлялись данные, которые не были основаны на расчетах. Заложенные суммы не были адекватны реальным расходам. Но когда компания подходит к проведению реальных работ, контракт уже нельзя переделать.
– Как государство подписывало такой контракт?
– Это были 1997–2010 годы. Тогда срочно нужны были инвестиции – лишь бы они пришли в отрасль, а предприятия начали работать.
– Но работали не всегда. Мораторий на проведение конкурсов был введен как раз потому, что не было инвестиций, месторождения стояли.
– Соглашусь, но частично. Главное, что начали функционировать базовые предприятия – ССГПО (Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение, в настоящее время входит в группу ENRC. – «Къ – Горное дело») и другие проекты, которые представляют порядка 85% нашей индустрии. Они были приобретены и начали работать именно в те годы. Это градо- и системообразующие предприятия, это основные налогоплательщики государства. И пусть 15% оказались недобросовестными недропользователями, сырьевыми спекулянтами, главное – заработали основные 85%. Сейчас у нас положение стабильное, у нас есть Нацфонд, зарплаты и пенсии выплачиваются, поэтому мы имеем возможность для другого подхода.
– И все же: почему так долго?
– Недропользователь уже через месяц получает протокол прямых переговоров, платит подписной бонус. С этого момента он получает доступ к информации, к территории, начинает готовить проектные документы.
– Но эти документы не дают юридического права на месторождения, и инвесторы опасаются потерять их и, следовательно, свои вложения.
– Да, риск такой есть, но де-факто он не проявляет себя. Назовите хоть одну компанию, у которой отняли? Очень редко кто сходит с дистанции после оплаты бонуса. Если отношения между СПК и компанией оформлены правильно, этого достаточно. Самое главное, чтобы работали.
– Казахстан заключил соглашение с германским геологическим ведомством о том, что немецкие геологи из их госагентства по геологии изучают объекты, в том числе занятые, но нуждающиеся в стратегических инвесторах, на предмет интереса к ним. Планирует ли Казахстан заключить подобные соглашения с другими странами?
– Да, подобные соглашения сейчас разрабатываются с Японией, Кореей и Турцией.
– Планирует ли правительство внедрить в Казахстане международные стандарты отчетности – JORC или NI 43-101?
– Да, мы уже думали об этом. Вероятно, будет либо принят JORC, либо Казахстан разработает собственный национальный стандарт на его основе.
– А как будет решаться проблема отходов горнорудного производства?
– Это очень важный вопрос. В таких отходах, правильнее сказать – техногенных минеральных образованиях (ТМО), содержится много полезных компонентов. На сегодня государственным кадастром учтены 906 объектов ТМО, из которых 200 объектов заскладированы до 30 мая 1992 года и являются государственной собственностью. На их разведку и разработку необходимо заключать контракт с компетентным органом. По 326 объектам отходы накапливались до указанного срока и продолжают накапливаться уже недропользователем. По ним требуется выполнить разделительный баланс. 360 объектов ТМО заскладированы после 30 мая 1992 года и принадлежат недропользователям.
Все ТМО расположены в пределах производственных площадок горнодобывающих и обогатительных, металлургических предприятий и других видов производств. Их последующая разработка целесообразна с участием действующих предприятий и СПК.
– Одна из ключевых проблем отрасли – отсутствие кадров. Как государство планирует решать этот наболевший вопрос?
– Кроме подготовки специалистов в отечественных вузах, есть еще два направления. Первое – это стажировки по государственным программам. Нам удалось совместно с МОН увеличить квоты на прохождение зарубежных стажировок по геологическим специальностям. Во-вторых, под усиленный контроль будет взят процесс подготовки кадров за счет отчислений недропользователей, а это ежегодно десятки миллионов долларов. Важным направлением также будет подготовка специалистов по контрактам на ГЧП в рамках государственного геологического изучения недр. Уже есть предварительная договоренность с некоторыми горнорудными компаниями (Rio Tinto, Kores, МТА и другими).
– Благодарю Вас за беседу.
Ирина Дорохова
Деловой еженедельник «КУРСИВъ»
Поделитесь с друзьями
Просмотров 70
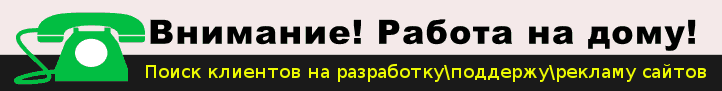
| Время загрузки страницы 0.688 сек. |
Хостинг - Разработка - Сопровождение. Copyright © 2007-2015 All Rights Reserved |
